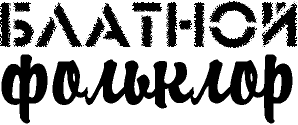| |
|
| |
|
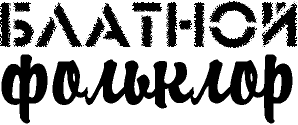 |
| |
"Интеллигенция поет блатные песни"
( Из книги: "Владимир Высоцкий: мир и слово")
Сама действительность тех лет, когда Высоцкий формировался как человек и художник, подсказывала ему многие мотивы, темы
и сюжеты из блатной сферы. Как и многие его современники, он в какой-то момент должен был ощутить насколько весь уклад страны
и образ жизни ее населения пропитались духом исправительно-трудового учреждения. Сталинские репрессии охватили все слои общества,
и любой гражданин мог почувствовать себя в положении зэка, до поры до времени находящегося на воле. В этих условиях
профессиональный фольклор преступников органично становился разновидностью общенационального фольклора, а блатная песня
оставалась едва ли не последним живым его жанром. Ей, в отличие от каких-нибудь подблюдных или хороводных песен, не нужна
реанимация - она до сих пор вызывает в нас живой отклик, болью напоминая о том, где мы, кто мы...
В конце 50-х - начале 60-х гг. лагерная тема вошла в советскую литературу вместе с именами А. Солженицина, А. Галича,
А. Жигулина, В. Шаламова и др. Тогда же Е. Евтушенко не без удивления заметил, что "интеллигенция поет блатные песни". Это казалось
противоестественным, парадоксом, но проявляло отношения весьма значимые и закономерные. Интеллигенция начала 60-х годов
сочувственно прониклась образами и мотивами из фольклора социально вроде бы чуждых элементов: возможная и так массово
реализованная общность исторического этапа преодолевала социальную чуждость.
Высоцкий относился к тем, кто "пел блатные песни". Именно пел, а не только пародировал с "педагогической" целью. В его
блестящем исполнении известен ряд блатных песен - "Таганка", "Течет реченька да по песочечку...", "На Колыме, где север и тайга
кругом...", "Летит паровоз по долинам, по взгорьям", - эти и другие песни исполнялись им проникновенно и чутко, артистически точно и,
если не всегда всерьез, то с любовью и сочувствием. Высоцкого привлекала сущностная значимость этих песен, они оказывались
созвучными его авторскому восприятию мира.
Блатная песня рассказывала о той (и весьма значимой) социальной сфере жизни, правда о которой в течение десятилетий ханжески
умалчивалась или преступно искажалась официальной пропагандой. "Окруженный немотою, застенок желал оставаться и всевластным
и несуществующим зараз: он не хотел допустить, чтобы чье бы то ни было слово вызывало его из всемогущего небытия; он был рядом,
рукой подать, а в то же время его как бы и не было..." Блатная песня не только прорывала немоту застенка, но и одним только своим
существованием напоминала людям, что рядом репрессивно упорядочивающим и упорядоченным государством, "есть многодонная
жизнь вне закона" (О.Мандельштам). И в этой жизни человек может, даже должен поступать так, как ему покажется нужным, волен
принимать самые ответственные решения, не только избегая давления всевозможных "организаций, инстанций и лиц", но и просто
вопреки ему. Это было самой сильной, привлекательной (и для Высоцкого) стороной блатных песен.
И Высоцкий не был одинок в подобном отношении к ним, а наиболее близок ему А. Галич, во многом предвосхитивший его,
ставший учителем наряду с Б. Окуджавой. Галич и Высоцкий острее многих других почувствовали и выразили одну из серьезнейших
социально-политических и этических проблем нашего общества: проблему свободы и ее многообразных ограничений.
Лагерная тема у Галича разрабатывается предельно жестко - достаточно вспомнить "Белую вошь" или историю, приключившуюся
с К. П. Коломийцевым, который стал доби-ваться почетного звания для своего цеха, производящего колючую проволоку:
Мы же в счет восьмидесятого года
Выдаем свою продукцию людям...
Мы ж работаем на весь наш соцлагерь,
Мы ж продукцию даем на "отлично"!
Подобная же соотнесенность соцлагеря с концлагерем возникает и в другом стихотворении ("Моя предполагаемая речь на
предполагаемом съезде историков социалистических стран: "Поскольку вы все в таком же лагере..."
Высоцкий был более осторожен и, так сказать, аккуратен, не позволяя себе подобных рискованных пассажей, хотя мотив тюрьмы
и для него оставался актуальным на протяжении всей жизни. В самых ранних песнях попадание в тюрьму выступало как подчеркнуто
обыденное, заурядное происшествие:
Сгорели мы по недоразумению -
Он за растрату сел, а я - за Ксению...
Постоянная готовность к лишению свободы - естественное жизненное состояние многих героев ранних песен Высоцкого.
И поэт был абсолютно прав в том смысле, что и сейчас существуют целые села и города, где "сесть в тюрьму - что ветрянкой переболеть".
Высоцкий знал о таком взгляде на мир, общество и, как всякий российский интеллигент, ощущал свою причастность к этой
общенациональной трагедии, ставшей обыденной:
Сколько ребят у нас в доме живет,
Сколько ребят в доме рядом!
Сколько блатных мои песни поет,
Сколько блатных еще сядут -
Навсегда, кто куда,
На долгие года!
Многие из этих "блатных" героев раннего Высоцкого не противопоставляют себя обществу, для них отбывать срок означает
"работать за бесплатно", им свойственно помнить о державных интересах:
Ну, а мне плевать, я здесь добывать
Буду золото для страны, -
заявляет один из них, отправленный в Бодайбо. А другой просится в Монте-Карло "потревожить ихних шулеров", обещая выигранную
валюту "сдать в советский банк", дабы принести "пользу нашему родному государству". Третий рад тому, что своим собственным
арестом он вносит скромный вклад в "семилетний план поимки хулиганов и бандитов..." При всей иронии автора, а может быть,
благодаря ей - язык "не поворачивается назвать этих героев асоциальными элементами. Напротив, они предельно социализированы, и,
соответственно, абсолютно типичны.
Высоцкий, как и Галич, предлагал такой взгляд на общество, согласно которому отличие общедоступной "свободы" от возможной
"несвободы" зачастую оказывается незначительным. Поэтому, изображая "блатной", лагерный мир, они видели в нем модель мира
"свободного", а художественные средства, почерпнутые из поэтики блатной песни, переходили в сочинения вполне литературные, но
придавали им подчеркнуто неофициальный характер.
"Я не считаю, что мои первые песни были блатными, хотя там я много писал о тюрьмах и заключенных. Мы, дети военных лет,
выросли во дворах в основном. И, конечно, эта тема мимо нас пройти не могла: просто для меня в тот период это был, вероятно,
наиболее понятный вид страдания - человек, лишенный свободы, своих близких, друзей. <...> главное, что я хочу сделать в своих песнях,
- я хотел бы, чтобы в них ощущалось наше время" ,- Высоцкий очень точен в характеристике своего творчества. Действительно,
далеко не все песни раннего периода даже условно могут быть названы "блатными", хотя обывательское сознание (в том числе и в
адекватной ему форме официозной критики) постоянно было готово заклеймить любое неортодоксальное творчество поющих поэтов
именно как "блатное", "Блатной и клеветнический характер" вменялся в вину честнейшей поэзии Галича. Некоторые критики на грани
профессионального кретинизма даже сдержанную, абсолютно литературную лирику Окуджавы также оценивали как "блатные" песни...
Всерьез назвать Высоцкого автором блатных песен - совершенно нелепо, поскольку авторская песня принципиально отлична от
любой разновидности песни фольклорной, в том числе и от блатной. О "блатных" же песнях Высоцкого можно и должно говорить лишь
условно и в двух разных смыслах: в одних случаях речь может идти только о сходстве тематической направленности, а в других - о
стилизации под фольклор. В поэзии Высоцкого эти типы песен часто разноплановы и независимы друг от друга.
Чтобы убедиться в сказанном, необходимо, конечно, прежде всего хотя бы в общих чертах представить, ч т о собой являет подлинная
блатная песня или, другими словами, что же, собственно, "инкриминируется" поэту. Но, к: сожалению, поэтика блатной песни до сих пор
по-настоящему не стала объектом пристального внимания фольклористов - это подозрительно-негативное отношение официальной
науки к одной из жанровых разновидностей устного народного творчества (как к анекдоту) само по себе показательно для
социокультурных отношений в нашем обществе недавнего прошлого. Не существует в литературоведческом обороте и изданий
блатного фольклора, необходимых для такой работы. Поэтому, никоим образом не претендуя на полноту и детальность, нам придется
лишь очень коротко определить жанровые признаки блатной песни, учитывая, что она, как порождение XX века, генетически восходит к
традициям разбойничьих и тюремных песен прошлых веков, испытывая на себе и воздействие "мещанского" романса.
Можно выделить две основные разновидности блатных песен. К первой, наиболее многочисленной, относятся те произведения, в которых
доминирует эпическое начало, т. е. они представляют собой рассказ о неких событиях, причем в некоторых из них повествование ведется
нейтрально, "со стороны" (как в балладе), субъект речи не определен и не является участником этих событий. Примерами такого типа
песен могут служить "Течет реченька да по песочечку", "На Молдаванке музыка играет". В других же рассказ ведется от первого лица и
передает личностный опыт субъекта, историю его жизни ("Гоп со Смыком", "Когда с тобой мы встретились..."). В подобных
произведениях неизбежно усиливается лирическое и драматическое начало, так как рядом с событийным планом возникает достаточно
определенный субъект высказывания со своим собственным отношением к изображаемому. Но он отличен от реального исполнителя,
что и заставляет последнего обращаться к театрализованным средствам подачи текста. Данный тип блатных песен можно было бы
выделить в особую разновидность, но это нам представляется нецелесообразным, поскольку и здесь доминирующим началом являются
именно события, а не внутренний мир и переживания персонажа. Ко второй, менее распространенной разновидности блатных песен
относятся те из них, главным содержанием которых являются чувства и мысли, выраженные от первого лица. Это - лирика в чистом виде,
как, например, "Таганка".
Объединяет же обе разновидности специфически "блатное" содержание и тематика песен, неизменно связанные с историей какого-то
преступления и (или) наказанием за него, причем авторская позиция предусматривает и выражает ту систему ценностей, согласно
которой отношения, здесь изображаемые, рассматриваются как нормальные и даже закономерные. Этим, в частности, блатная песня
отлична от "жестоких" и "мещанских" романсов, в которых преступление, как правило, оценивается негативно, оно понимается как
трагический итог порочных личностных или общественных отношений, а то и просто как нелепая, роковая случайность.
В блатных песнях возникает особая система образов и образных деталей. Положительные герои наделены реши-. тельным характером,
сильной волей, они страдают, но без рефлексии, а рядом с ними возникают традиционные типажи: друг, предатель, "фраер", "легавые",
верная или, наоборот,, неверная возлюбленная, старушка-мать, адвокат-"защитничек", судья, врач, "начальничек", охранник...
Посторонний персонаж здесь появиться не может - мир, изображаемый в блатной песне, очень узок, замкнут в себе самом и в своих
проблемах. Фольклорная система образов вообще склонна к самоограничению и новации не поощряет, чем блатная песня закономерно
напоминает устойчивую (если не постоянную) систему образов и ситуаций в сказке или балаганном театре Петрушки.
Блатным песням свойственна и своя топика: темный переулок, парк, городская окраина, ресторан, вокзал (порт), поезд (корабль), тюрьма,
родной дом. По вполне понятным причинам особую распространенность (кроме общефольклорных) получают мотивы карточной игры
и пьянства, болезни и смерти. Наконец, блатная песня наименее табуирована в языковом отношении; ее характеризуют некоторые
особенности речевого стиля, а в наибольшей степени - лексика из воровского жаргона, вроде: "Шнырит урка в ширме у майданщика".
Кстати, эта песня также известна в исполнении Высоцкого.
Понятно, что блатная песня имеет ограниченные возможности изображения мира и человека в нем. Но вместе с тем она
напоминает об общей несвободе и предлагает, хотя и в самом наивном, "луддитском" варианте способы иного существования " .
©Андрей Скобелев, Сергей Шаулов, 2000 г.
|
©
I.Efimov, V.Kovtun
|
|
|